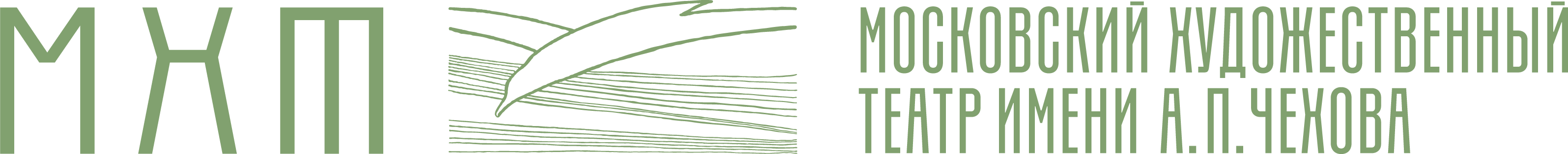Наедине со всеми | Слабый человек. И это все?..Александр Свободин, Литературная газета, 2.03.1983 В сенсационной первой постановке пьесы Толстого в Художественном театре в 1911 году его роль сыграл Иван Михайлович Москвин. Был он, как известно, роста невысокого и внешности совсем негероической. На премьере успеха скорее не имел. Среди прочих «отсутствий» обвиняли его и в отсутствии «аристократизма».Но от спектакля к спектаклю великий русский артист убеждал зрителя, что его Федя обладает истинной внутренней духовностью, аристократизмом чувств и в своем падении стоит много выше иных благополучных людей. В этом движении к зрителю артисту споспешествовал общий строй постановки, как теперь сказали бы, «один к одному» воспроизводившей быт и московского барства, и московского трактира. Шли годы, и все чаще, а затем и как правило, роль Феди стали отдавать актерам иных данных, нежели данные Москвина. Случайность ли это? Невольное «сползание» сцены к эффектности главного лица или в самой пьесе было заложено нечто такое, что требовало от центральной фигуры не «бытового», а «трагического» начала? Таким началом обладали крупнейшие русские актеры, которых мне посчастливилось видеть в этой роли, — И. Н. Берсенев. М. Ф. Романов, Н. К. Симонов. Возможно, смена типа актера, которому поручалась эта роль, диктовалась жизнью — общим социально-обличительным пафосом, присущим времени. Но не исключено, что пафос этот соединялся с тем, что кто-то, кажется, Ромен Роллан, назвал «героической нравственностью Толстого». Однозначно не ответишь. Анатолий Эфрос, предложив главную роль А. Калягину, словно бы возвращает Художественный театр к «принципу Москвина». Назначение на роль — уже идея, уже решение. Там, за образом, — добрый, доверчивый человек, чаще неуверенный, нежели уверенный, стеснительный… Заметим эти качества, по мысли постановщика, к нынешнему Протасову они подходят. Эфрос — возмутитель спокойствия. В памятных его постановках классических пьес происходило внезапное оживление до затертости знакомых ситуаций и персонажей. Наши прозрения и поиски звучали в давних его «Трех сестрах», трагедии Агафьи Тихоновны в смешной «Женитьбе», драме конца в полемическом «Вишневом саде». Что прозвучит здесь? Еще темно. Справа, на первом плане, — тахта. Грязноватая тахта, точно больной зуб — его не лечат, и оттого он все время о себе напоминает. Весь спектакль Федя просидит или пролежит на ней или будет кружить около. Символ. Место, которое осталось ему в жизни. Спектакль начинается бравурно. В нервическом темпе выходят гитаристы, потом выбегает мальчик и вслед девочка, обличьем и ухватками — взрослые цыгане. Залихватски пляшут. Кажется, по замыслу Толстого, зритель должен вместе с героем надолго погрузиться в стихию чудного цыганского пения, с ним дойти «до этого восторга», но режиссер отменяет сюиту из пяти больших песен, названных автором. Не в этом дело! — говорит спектакль. С кинематографической монтажной упругостью действие прорывается к главному пункту. Цыганская сцена выставлена режиссером вперед (у Толстого она — вторая), очевидно, затем, чтобы скорее уйти от нее и сразу заявить, о ком спектакль, А главный пункт вот в чем: «Живут три человека…» Беря пьесу, Эфрос нередко ставит в ней не все, а главную тему, концентрирует внимание на ней. Гармония вторых и третьих лиц его не занимает. «Живут три человека» — вот суть, вот вечная драма. Первый — Федя. Самый опустившийся из всех мною виденных. Грязен, неопрятен, точно давно не мылся. (Неопрятность его выглядит какой-то слишком безусловной.) Потерял даже привычку автоматических приличий. Приходит Саша, сестра жены, а он при ней валится на тахту. У Толстого тут ремарка: «ходит по комнате. Саша села, смотрит на него». Этот Федя уже в начале действия доведен чуть ли не до состояния Барона в «На дне». Вообще он как-то близок к горьковской ночлежке. Этот Федя говорливый. Федя без пауз и без тайны. Всегда в подпитии — бутылка возле тахты. И, как ребенок, объясняет себя. Чтоб поняли. И тот свой монолог у следователя произносит, никого не обличая, а объясняя судейскому. Нервничая, срываясь. У Феди — Калягина нет общей идеи, а есть состояние. Он проживает перед нами не процесс какого-то своего понимания мира, где не может жить, а свое расставание с ним. Он не участвует. Не может. Он очень земной, этот Федя. Оттого так физиологично и страшно проводит актер сцены сперва неудавшегося, а затем удавшегося самоубийства. И только одно у него, глубоко запрятанное, — Лиза. И все связанное с ней. Лиза — А. Вертинская, на мой взгляд, безупречно толстовский персонаж. По-своему блестящая, отлично воспитанная, корректная в любых душевных движениях, мать с вечной тревогой за ребенка, но женщина «без игры», которой так недоставало Феде. Разнообразно и интересно играет актриса пределы отпущенных этой натуре чувств, ее заурядность. И еще, всегда сложное в этой роли, — отношение к Виктору, то, что французы называют L?Amitié amoureuse. Эта «влюбленная дружба» разлетается при первом громе, как пущенный об стену стакан, потому что и у нее, Лизы, есть тоже глубоко запрятанное — страсть к Феде. Женская страсть. Перед тем как пустить Виктора в детскую, она на секунду застывает, и мы видим, как встал Федя перед ее глазами. А у следователя, едва завидев его, перегибаясь, словно надломившись, издавая не крик, но хрип, потеряв всякий контроль, бросается к нему. И он бросается к ней. И на миг они становятся теми, кем должны были бы быть, когда «не свобода», а «воля», — людьми. Едва ли не лучшая сцена спектакля. А третий, Виктор? Бросается в глаза зыбкость рисунка, …взятого актером, в таланте которого не приходится сомневаться. Ю. Богатырев точно мечется в поисках определения своего героя. То ли изобличает, то ли, напротив, сочувствует. Скучен ли, как говорит о нем Федя, или до фанатизма порядочен? Трудно сказать… А вокруг этих трех, драма которых возникает от одного лишь соединения несоединимых характеров, располагаются остальные участники «главной пьесы». Это Анна Дмитриевна Каренина, в роли которой А. Степанова являет всю прелесть и знание того, что такое «светская дама» в жизни и на сцене. Тут давно уже перемешались две эти материи — сценическая традиция и жизненный опыт, и разделить их нет возможности (и надо ли?). Жест, манера, костюм, речь (тут лучше сказать «выговор»). Мило улыбается князю Абрезкову, напомнившему ей о молодости, и тут же, конечно, — на французский. .. Приличия, приличия, маска, ставшая лицом! Приняв на первых спектаклях излишне «разоблачительный» тон, уже на следующих (вот где мастер!) Степанова решительно притушила жест, обретя уверенную сдержанность. В той же манере и в той же системе художественных ценностей ведет свою роль С. Пилявская — Анна Павловна, мать Лизы. С той лишь разницей, что «разоблачительный» тон у нее еще не притушен. В холодноватом движении спектакля, в мире разъединенных людей и дефицита нормальной доброты важна роль князя Абрезкова. Единственный добрый человек, жалеющий всех в этой драме, единственный до конца порядочный, М. Прудкин на этом настаивает. Оттого так согревает зал каждое появление князя на сцене. Он излучает внимание, с щепетильной бережностью проводит разговор с Федей о разводе. И мысли не допускает, что тот изберет какой-то иной способ разрыва. Не хочет причинить боль, готов отказаться от своей миссии. Другой тон в разговоре с матерью Виктора. Чуть-чуть иронии не помешает, думает князь. М. Прудкин убеждает в единственности такого решения. А ведь нередко князя записывали по лагерю фальши! Этими действующими лицами очерчен круг «главной пьесы». Я мог бы сказать и об остальных, но, да простится мне резкость, остальные, увы, почти не запоминаются. А ведь их много, остальных! И няня, и горничная, и Саша, и секретарь, и лакей, и Маша, и Афремов, и шантажист… Одни актеры проводят свои сцены добротнее, другие, так сказать, спокойнее, но все это ниже уровня не легендарного, а нынешнего Художественного театра, каким он предстает в его лучших спектаклях. Дело в том, что не возникает неотразимого ощущения жизни, не образуется атмосферы лица и места, не выстраивается того, что названо было «партитурой атмосфер». Скажем, судейские, следователь и его помощник, сыграли сцену живо, с азартом даже (артисты Б. Дьяченко и В. Кулюхин). Современные молодые люди в длинных волосах современно двигаются, в меру циничные, в меру деловые. Но живут ли они в том же мире, что и семьи Протасовых и Карениных, в том же городе, где трактир и последние Федины «меблирашки»? Режиссер не дает забыть, что перед нами театральная игра. Таково движение театра. За многие годы я мог бы составить энциклопедию постановочные приемов Эфроса. Выделить его любимые. Например, «динамическую мизансцену», как я ее называю. Когда при малейшей возможности встают, переходят, бегают, садятся. Я понимаю, это освобождает актера, дает ритм, предохраняет от ложной многозначительности, но… и приедается. Нарастающий темп, непрерывность обеспечивают и «захлесты» (нет-нет, не «научный термин»!). Это когда участники одного эпизода еще не покинули сцену, а участники следующего уже взошли на нее. Кинематографический «наплыв». Так однажды «уходящая» Лиза взглянула на уже появившегося с другой стороны Федю, и комок сжал мне горло. И единая на весь спектакль «установка». Роскошный, но необжитый буфет в силе «модерн», такие же стулья вокруг овального стола. Потом их сменят на дачные, а судейские в своей сцене наденут на них белые чехлы. Символ. Омертвление жизни при прикосновении официальной Фемиды. Потом сменится задник с частью картины — парижский бульвар, суета, светскость… Все прочитывается, все так. Но удивительное дело — где-то с середины спектакля действие словно остановилось. Зал следит, но новой, нарастающей в своем внутреннем значении информации не поступает. А монтажная упругость, скорость оборачиваются некоторым парадоксом сценического времени. Лиза не успевает обжиться в другой семье, точно выскочила замуж, «башмаков не износив». А ведь прошло много времени, Федя исчез давно, сын подрос, она беременна… Длительности временной паузы, то есть одного из условий композиции Толстого, спектаклю явно недостает. ЧТО ЖЕ в итоге? Но прежде о другом. Я люблю читать книги Эфроса. Он талантливо объясняет свои спектакли, кажется, что-то подправляет в них, будто ставит заново. Литературные мечтания режиссера. Да позволены будут и критику «режиссерские мечтания». Я понимаю, каким я могу показаться ретроградом, и я вовсе не настаиваю на истинности моего суждения, но непременно выскажу его. Меня преследует мысль, что неслыханным новатором окажется режиссер, который поставит сегодня пьесу Толстого или Чехова, не опустив ни одной авторской ремарки, не перемонтировав картин и действий. Этот режиссер научит актеров, утерявших это умение, обживать реальные вещи и в числе других задач займется извлечением образности из окружающего человека предметного мира. Я убежден, что у современного зрителя проснулось желание вновь увидеть на сцене не «единую установку», а все десять мест, указанных Толстым, — и «роскошно-скромный» кабинет Анны Дмитриевны Карениной, и гостиную дома Лизы… То есть. увидеть, как люди жили, и прочувствовать, если можно так сказать, сам запах социальной атмосферы. Театр — не музей! О, да. Мы так часто слышали и повторяли это, что уже не вдумываемся, что за словами. Театр — не музей, но память. Ему дано воспроизводить формы жизни и сам дух ушедших поколений. Я не призываю вернуться к первой постановке «Живого трупа», но, мне кажется, пришло время научиться медленно играть и медленно смотреть спектакли! И еще. Снимая ржавчину штампов, дурных театральных традиций, постановщик «Живого трупа» как бы оголил пьесу до прямых психологических коллизий. Но, сделав это, он не взял во внимание, что пьеса «оголена» уже самим автором, его художественным методом. Предельный лаконизм, «сжатье массы» ситуации и слова. Подумать только, Толстой не дал Лизе при встрече с Федей у следователя ни восклицания, ни ремарки! Но точно «вычислив» Лизу, режиссер предложил актрисе единственно возможную реакцию. Вот так бы и всюду — и у цыган, и в суде, и с половыми, и с лакеями… Сумел же артист М. Горюнов в эпизодической роли доктора одним штрихом набросать социальный портрет! Нет, не освобождать пьесу от быта, а, напротив, погружать спектакль в социально осмысленный быт, предусмотренный автором, — такой способ оживления «Живого трупа» представляется мне сегодня убедительнее. Так кто же такой Федя Протасов? Честный, совестливый, совсем опустившийся человек, не имеющий сил остаться жить в своем мире, в своем обществе. И все?.. Пресса Александр Калягин рассказывает о работе с Анатолием Эфросом, Александр Калягин, Из книги «Александр Калягин», 2002 Слабый человек. И это все?.., Александр Свободин, Литературная газета, 2.03.1983 Трагедия честного человека, Юрий Дмитриев, Литературная Россия, 28.01.1983 | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ