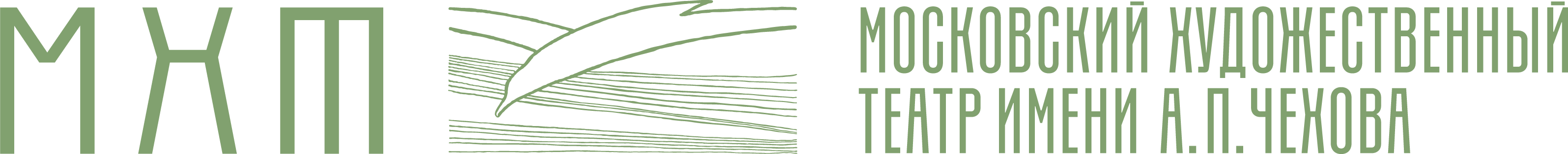Художественное руководство и дирекцияРуслан Кулухов Владимир Хабалов Ляйсан Мишарина Наталья Перегудова Сергей Шишков Вячеслав Авдеев Константин Шихалев Творческая частьРепертуарная частьНаталья Беднова Олеся Сурина Виктория Иванова Наталья Марукова Людмила Калеушева МедиацентрАнастасия Казьмина Дарья Зиновьева Александра Машукова Татьяна Казакова Наталья Бойко Екатерина Цветкова Олег Черноус Алексей Шемятовский Служба главного администратораСветлана Бугаева Анна Исупова Илья Колязин Дмитрий Ежаков Дмитрий Прокофьев Отдел проектной и гастрольной деятельностиАнастасия Абрамова Инна Сачкова Музыкальная частьОрганизационный отделОтдел кадровАнна Корчагина Отдел по правовой работеЕвгений Зубов Надежда Мотовилова Финансово-экономическое управлениеАльфия Васенина Ирина Ерина Елена Гусева Административно-хозяйственный отделМарина Щипакова Татьяна Елисеева Екатерина Капустина Сергей Суханов Людмила Бродская ЗдравпунктТатьяна Филиппова | Добрые игры в недобром миреНаталья Крымова, 05.1993 Совершенно ясно, что на одном из курсов РАТИ (ГИТИСа), а именно на актерско-режиссерском курсе Петра Фоменко, родился театр. Это понимают все: многоопытные коллеги-режиссеры, педагоги, критики, расторопные иностранцы, уже приглашающие во Францию, в Польшу, в Израиль. Понимают ответственные лица Министерства культуры, руководители Союза театральных деятелей, драматурги, журналисты, музыканты, художники. Понимает и публика. Я наблюдала эту публику — взрослую, детскую, элитарную, профессиональную, самую обыкновенную — в Учебном театре, где играют «Владимира III степени» Гоголя и «Двенадцатую ночь» Шекспира, в институтском зале («Волки и овцы» Островского и «Шум и ярость» Фолкнера), наконец, в коридоре того же института, где вопреки всем представлениям об условиях сцены идет «Приключение» Цветаевой. В любом помещении, в любое время двери становятся тесными, и никто не озабочен, что зрителей не будет.Меньше всего этим озабочены артисты. Это никак не равнодушие к публике, но та увлеченность своим делом (то есть игрой, атмосферой спектакля), в которой заключено особое достоинство — одна из примет сценического стиля, определенной эстетики, связующей очень разные спектакли. Ни в одном из них не заметишь актерского угодничества — заигрывания, подмигивания, развязности зазывал. Вас не зазывают и не обслуживают. Но - увлекают. И если вы не окончательно оглохли и отупели под натиском того, что любого человека сегодня отупляет и оглушает, вы обнаружите в себе неисчезнувшую способность улыбаться, радоваться, слушать музыку стиха, понимать тихую речь, отличать доброе от жестокого и агрессивного. Удивительное дело: Петр Фоменко, не пользовавшийся репутацией доброго художника и мягкого человека, не вдруг, не в одночасье, но за пять лет вырастил рядом с собой компанию молодых, которые объединены, в частности, отсутствием агрессии. Кому-то это покажется свойством несовременным, так сказать, не способствующим выживанию. Действительно, можно ли с таким характером, с таким мирным укладом выжить в обстановке, где вот-вот что-то взорвется, лопнет, грохнет и кончится? Не знаю. Может быть, выжить нельзя вообще, но жить (достойно, уважая друг друга, сосредоточенно жить в искусстве и ради искусства) не только можно, но, по-моему, должно. Многое в педагогическом опыте Фоменко для меня остается секретом. Я не знаю другого примера, чтобы на одном курсе, на равных с актерами участвуя в играх (то есть в спектаклях), вырос не один талантливый, не похожий на своего учителя режиссер, а сразу несколько. Но тут все разные и все друг другу в помощь, притом, что у каждого своя роль. Редчайший случай, когда разность неразрушительна, неконфликтна. Но если не знать, почему, скажем, к Евгению Каменьковичу так тянутся совсем зеленые и почему этот живчик-педагог, полный веселой энергии, так нужен именно молодым, то не понять и творческой привязанности актеров совсем к другому режиссеру — Сергею Женовачу. И совсем уж загадкой будет выглядеть явление в нашем театре такого режиссера, как 24-летний македонец Иван Поповски. Мальчик из Македонии, пять лет назад не знавший ни слова по-русски, сегодня осилил сложнейшую ткань поэзии Цветаевой и поставил спектакль, впервые давший дыхание поэтической драме, за которую никто до сих пор всерьез не брался. Возможно, юного македонца потянуло к этой пьесе, как ребенка к забавной игрушке. Но то, чем он увлекся, увлекло и актеров — прежде всего стихи, слово, тайна поэзии. Известно, что эту тайну Цветаева защищала от театра, как тигрица своего детеныша. «Театр — нарушение моего одиночества с Поэтом», «Не чту Театра, не тянусь к Театру и не считаюсь с Театром» — все эти нервные авторские манифесты были обдуманы и почтительно отодвинуты в сторону. Случилось неожиданное: то, что от театра защищала Цветаева, сберег и защитил сам театр. В других цветаевских словах он нашел, вполне вероятно, уникальный ключ к тому, что у поэта все же названо пьесой: «Страсть игры, то есть — тайны, оказывалась во мне сильней страсти любви». Полнота переживания любовных страстей этим актерам еще недоступна. Но для романтической страсти игры — самое время. (Спрашиваю режиссера: «Ваня, может быть, вы романтик?» Спокойно отвечает: «Да».) В центре спектакля — Казанова. То, что можно условно назвать сюжетом, — воспоминание о главном Приключении жизни и веренице неглавных встреч, разрывов, прощаний. Увлекательность этой игры в ее возможной бесконечности и в ее же краткости. Спектакль идет всего 50 минут. Главный жест спектакля напоминает о том, как открывают, а потом закрывают старинную книгу: приоткрыли дверь в коридор и подсветили это узкое пространство так, чтобы и в глубине его, и в четырех выходящих в него дверных проемах угадывалась таинственная жизнь — слышалась музыка, мелькали камзолы и юбки, трепетало пламя свечей? А потом в главном проеме, как в раме для прекрасной картины, застыли бы двое, сведенные случаем или Роком. То ли и вправду все это — Рок, то ли детская забава. Но притом сомнамбулический любовный лепет закреплен строгой рифмой, а живое движение — чеканной пластикой. Да, они-таки мастерски освоили и причудливые цветаевские ритмы, и стиль старинных мемуаров, и еще многое другое. Можно сказать: это тоже виртуозы Москвы. Слезы труда (долгого, кропотливого) спрятаны, никаких усилий ученичества не видно. Поэтому я с полной ответственностью и говорю, что театр уже родился. Актеры молоды, что само по себе прекрасно, но не менее прекрасно, что у них за плечами уже целых пять (!) лет, проведенных не зря. Пять лет и еще каждый день сегодняшней жизни. Эти актеры живут не в болтовне, не в «кайфе» (чужое для них слово), но в любимой работе, ставшей для них привычкой, удовольствием и смыслом существования. Можно ли на все это посмотреть подозрительно и недобро? Увы, да. Не так давно в одной газете обвинили Сергея Женовача в том, что во «Владимире III степени» он со своими артистами смакует непривлекательные стороны российской жизни. Ну, а то, что спектакль получил призы и награды, так это потому, разумеется, что режиссер продался тем, кому не дорога Россия. И так далее, и тому подобное. Все знакомо и неново. Неизобретательно, злобно и бездарно. Единственное, что ново — Сережа Женовач в ответ смеется! И Ваня Поповски тоже смеется, хотя ему и неловко за наши нравы. Ведь он эти нравы только еще познает, как познавал законы русского стихосложения. Оба смеются не деланно, но вполне искренне. Правда, жить режиссеру Женовачу негде, а прописка кончается. Но ему гораздо важнее то, как вчера прошел фолкнеровский спектакль и стало ли понятно через игру его актеров то, что они для себя в репетициях называли «потоками сознания». Про смех сказано не зря. Родилось поколение, которое смеется над нами. В этом смехе, разумеется, многое, но в том числе и своя отделенность от дурного, тяжелого опыта старших. В спектаклях театра живет интонация этого молодого и здорового смеха. Живет готовность улыбнуться навстречу хорошему и посмеяться нелепому. В искусстве такой смех возникает не по легкомыслию, но в результате того любопытства, с которым божий мир рассматривают дети. Им еще неведомы перегородки, которые люди поставили между «верхом» и «низом» жизни — они многие из преград сметают в своих играх. Неизвестно, какую пьесу сложил бы великий Гоголь из тех отрывков, которые оставлены им вне видимых связей, но если бы среди них не было сцены «В лакейской», возможно, не родился бы и спектакль «Владимир III степени». Для Гоголя всегда чрезвычайно важны человеческие мечты — не менее, чем реальность. И вот в сонной одури, которой охвачены молодые слуги, неприметно рождается мечта о бале, о празднике. У Гоголя не такого праздника, но к нему, сознательно или невольно, устремлены все его герои. Каждый ловит такое мгновение и радуется ему, будто проснувшись. Смешон, нелеп чиновник, мечтающий только об ордене, смешна (но и лукава) помещица, поставившая под завещанием вместо своего имени таинственное слово «Обмокни», смешны женщины всех сословий, облепившие Дон-Жуана по имени Собачкин, но из всего этого вихря призрачных мечтаний, поступков, мельканий, как из петербургской метели, возникает ничто иное, как Бал! Бал, где музыка не просто играет, но гремит, а танцуют все вместе, кто в туфельках, кто в валенках, кто дождавшись желанной пары, а кто в неменьшем упоении, хотя и один. Молодые ребята дождались конфет и пряников, никаких хозяев нет, дурацкую собачку Зюзюшку искать не нужно, но зато можно вообразить себя балериной, или разбежаться в валенках по полу, как по льду, и вихрем промчаться прямо на зрителей так, чтобы не упасть со сцены в зал, а только слегка попугать сидящих в первом ряду? Нет, это спектакль совсем не из той театральной подворотни, где царит культ помойки и чернухи? Этот уродливый культ явился зеркалом многих искажений нашей психологии, но «Владимир III степени» ему противостоит. Спектакль красив, строг и чист. Он играется на убогой сцене, но в нем нет убожества. И в нем жив дух Гоголя. Нужны еще примеры? Пожалуйста, совсем маленький. Весной прошлого года вышли в свет «Волки и овцы». Учебную работу китаянки Ма Чжен Хун благословил и завершил Петр Фоменко. Посмотрев спектакль, один солидный критик воскликнул: «Какая прелесть эта гадость!» То, что нравы, описанные Островским, — гадость, это известно, но что живая прелесть игры (не трюков, но игры настроений, интонаций, оттенков, взаимоотношений) может стать атмосферой спектакля по пьесе Островского, было ново. О каждом исполнителе хотелось написать отдельно, но еще больше — о том, как все эти фигуры связаны одна с другой, будто буквы в легком, изящном почерке. Лишь одна буква была написана неловкой — так, что показалось, будто на роль Беркутова исполнителя в труппе нет. Жаль, конечно, — перламутровая вдовушка Купавина теряла голову неизвестно отчего, а Мурзавецкая проигрывала, будто сыграла в поддавки. Но прошел год. И недавно на показе, который назывался «Все спектакли мастерской Петра Фоменко», мы опять увидели пьесу Островского. Я предупредила знакомых: прошу прощения, не вполне удачен Беркутов и т. п. Но вышел этот Беркутов? Нет, не этот, совсем другой! Хотя актер тот же. И тут стало понятно, как серьезен и силен тот внутренний рабочий (уже не ученический!) уклад театра, о котором зритель вправе не думать. Короче — вышел Беркутов! Заново была переписана не буква, но весь лист (актер, роль, человек, все сцены с Купавиной и Мурзавецкой и, конечно же, весь финал). Среди прочих игроков и обманщиков, притвор и плутишек явился такой главный плут, такой знаток всех сетей, капканов, ловушек и всеобщего беззакония, что все овечки и хищники показались не более как площадкой молодняка. Как иногда все просто объясняется, однако. Актер и режиссер поработали — вот, собственно, и все. Им самим было ясно, что одна весьма заметная буква в общем письме написана нехудожественно. Не точно по отношению к целому. Не в помощь другим. А нужно — точно, художественно, с таким же вниманием к Островскому, с каким мы читаем, к примеру, Набокова. И если маститые театры решили, что пьесы Островского — это некая наезженная колея, которую оживить можно лишь какими-нибудь придорожными украшениями, — может быть, интереснее уловить то время суток, когда над любой наезженной дорогой воздух так удивительно дрожит, что становится почти видим и осязаем? Тогда новой, впервые увиденной кажется и сама дорога, и всякая травинка рядом. Не только Островский, но все спектакли театра поставлены с таким острым зрением и вниманием ко «всякой травинке». Можно ли все это накопленное, добытое и выращенное потерять? И что нужно, чтобы не потерять? P. S. Уважаемый Юрий Михайлович! (Это я пишу мэру Москвы Ю. М. Лужкову.) По соответствующим каналам канцелярии Вам отправлено письмо — уже второе, т. к. первое, видимо, не дошло, — где есть и моя скромная подпись, Но кроме меня — известные имена: М. Ульянов. М. Захаров, А. Гончаров, О. Табаков, А. Гельман, М. Рощин. Вас просят помочь молодому театру, который вздумал родиться в то время, когда другие думают, как выжить. Чтобы хорошее дело не погибло, ему нужно только одно — крыша над головой. После долгих поисков такая крыша найдена. Найдены финансовые гарантии, найдены готовые к работе люди. Нужно только одно — Ваше согласие. Вы можете сказать: «Я хоть и отец города, но не родитель вашему театру, а домов в Москве нет». Но они есть и все это знают. Между нашим общим знанием и конкретными правителями возникает опасный зазор. Вам не кажется, что лучше бы этого зазора не было? Иначе у многих рождается то чувство бессилия, недоброты и цинизма, на котором ничего не возродишь и не построишь. А вообще просить у сильных и именитых крайне неприятно. Однажды я обратилась к Булату Окуджаве (знаете такого поэта?) с просьбой выступить на вечере, посвященном Владимиру Высоцкому. Времена были нелегкие, и можно было предвидеть, что поэта придется упрашивать. Но Окуджава ответил коротко; «Почту за честь». Понимая, что сравнение несколько странное, я все же позволю себе пофантазировать. Почему бы мэру Москвы на просьбу о театре не ответить так же просто и ясно: «Почту за честь». Ответить — и поставить свою подпись там, где надо. Многим разговорам о плохих временах был бы положен конец. А хорошему театру — начало. | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ