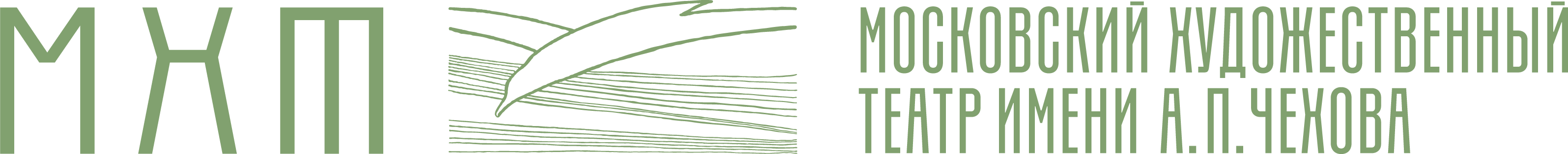Артисты труппыАртисты, занятые в спектаклях МХТ | Отечество дымаЕлена Дьякова, Новая Газета, 13.09.2004 На Малой сцене М. Х. Т. клубится серый вокзальный дым. Пахнет коксом и перегретыми тормозами. Старик (Михаил Хомяков) с бородой веником, в армяке и круглой войлочной шапке каторжника похож на Толстого эпохи опрощения и «Воскресения». Он метет перрон. Жестко, как розги моралиста, свистят прутья арестантской метлы, разгоняя по углам скорлупу одноразовых стаканчиков.На сиденье советского уличного ростомера, под деревянным Молохом облупленной планки сидит кроткий Миссионер (Иван Жидков) в черной квакерской шляпе, с Библией в бледных, лягушачьих ладошках. В вокзальном тумане сверкает серебряный крест на переплете. Распахивается хилая фанерная дверь — узкая и очень высокая, как щель между мирами. За ней — трехэтажные нары, гогот, мокрое сукно бушлатов. Сорок каторжных душ обоего пола лежат вповалку. Ежели совсем по-честному, нары похожи на стеллаж морга. Нежное блеяние цивилизованной проповеди Миссионера, острый, угрюмый и трезвый взгляд Старика? Полная безнадега. Щель меж мирами захлопывается. В «Воскресении. Супер» действие несколько раз достигает такого накала. Двухчасовой спектакль состоит из вспышек, из рваных гротескных сцен, дрейфует от пародии к антиутопии. Антиутопия, как ныне водится, — вполне реалистична. Роман Толстого (ежели дело в Толстом) здесь словно «тиснут» растерянным и одичалым интеллигентом в вагонзаке. Отношения у рассказчика с текстом те же, что у князя — с юной Катериной в пасхальном батисте: столько было после полковой жеребятины, похмельного сна, пустых лет, грязных простынь? А все смутно помнится чего-то такое, что теперь и не выразишь. В вагонзак лирический герой, вероятно, попал за дело, но по пьяни, обострившей рассейскую тонкость чувств до смертоубийства. В «пересказ» вплетаются истории диких, случайных и неизбежных нынешних «бытовух» — точно к Толстому подклеены черновики «Терроризма». И ведь все срослось. Но и для читателя 2004 года чуть не главное в «Воскресении» — органическая связь с «Терроризмом». С «Архипелагом ГУЛАГ». С самыми угрюмыми страницами разнообразных «карагандинских сказок» 1990-х. Точно Толстой в 1890-м понимал про безмятежную детскую душу Платона Каратаева значительно больше, чем ему, Толстому, хотелось бы понимать. (Кстати, дневники 1890-х это подтверждают. Лейтмотивы записей: «Слушал их и плакал». И еще: «А что же будет дальше, после моей смерти?») Не «инсценировкой» же занимались здесь, в самом-то деле! Именно смутная память и растерянность рассказчика, отрепья гвардейского мундира, повидавшего Хитровки, толкучки и барахолки, потрепанный и неудержимо смешной Нехлюдов (Виталий Егоров) во фраке на голое тело и в серых валенках, каторжник с метлой взамен «совести земли Русской», перегретые и хлипкие тормоза каждой души, сантиментальный всхлип убивца, «русский салат» наотмашь накрошенных архетипов, полное отсутствие внутренней четкости, двоичного, черно-белого счисления «дозволенного» и «запретного» — главная тема «Воскресения. Супер». Широк русский человек. Как разъезженный пустырь, не распланированный и не застроенный — ну никакими же скудными, бетонными однозначными нормами. Оттого с тормозов он сходит на любом месте, в любой момент. Его озверение, его великодушие и его бездеятельность — почти единой природы. Самое «ясное» пятно в серо-коричневом, бязевом и блекло-защитном мире спектакля — красный сарафан (а затем красный комбидресс) Катюши Масловой (Лина Миримская). Боязливая кротость, «влево бегущий пробор» склоненной белокурой головки и носовой, гнусавый голосок «ученицы кассира-контролера» создают очень органичный образ, сливающий «эпоху Толстого» и нашу по законам психологического театра. Умом Катюшу не понять, аршином общим не измерить. Бог весть почему она отвергает Нехлюдова. Бог весть почему доверчиво идет по этапу за столь же смешным социалистом и вегетарианцем Симонсоном, похожим на мэнээса 1960-х (Игорь Петров). Будь спектакль менее лабораторным — в Катюше, возможно, брезжил бы символ? многострадальной Родины, что ли? — Вы свободны, князь? Больше уж Вам об нас думать нечего, — неожиданно ласково говорят каторжники из отбывающего по своим путям «столыпина». Прекраснодушный и смешной, обтрепанный, как том классика из тюремной библиотечки, — Нехлюдов остается на перроне. Один. В дыму. В таком же дыму — без ориентиров, маршрута и расписания, без Библии чокнутого Миссионера — уходит в будущее и каторжный эшелон. | |
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ